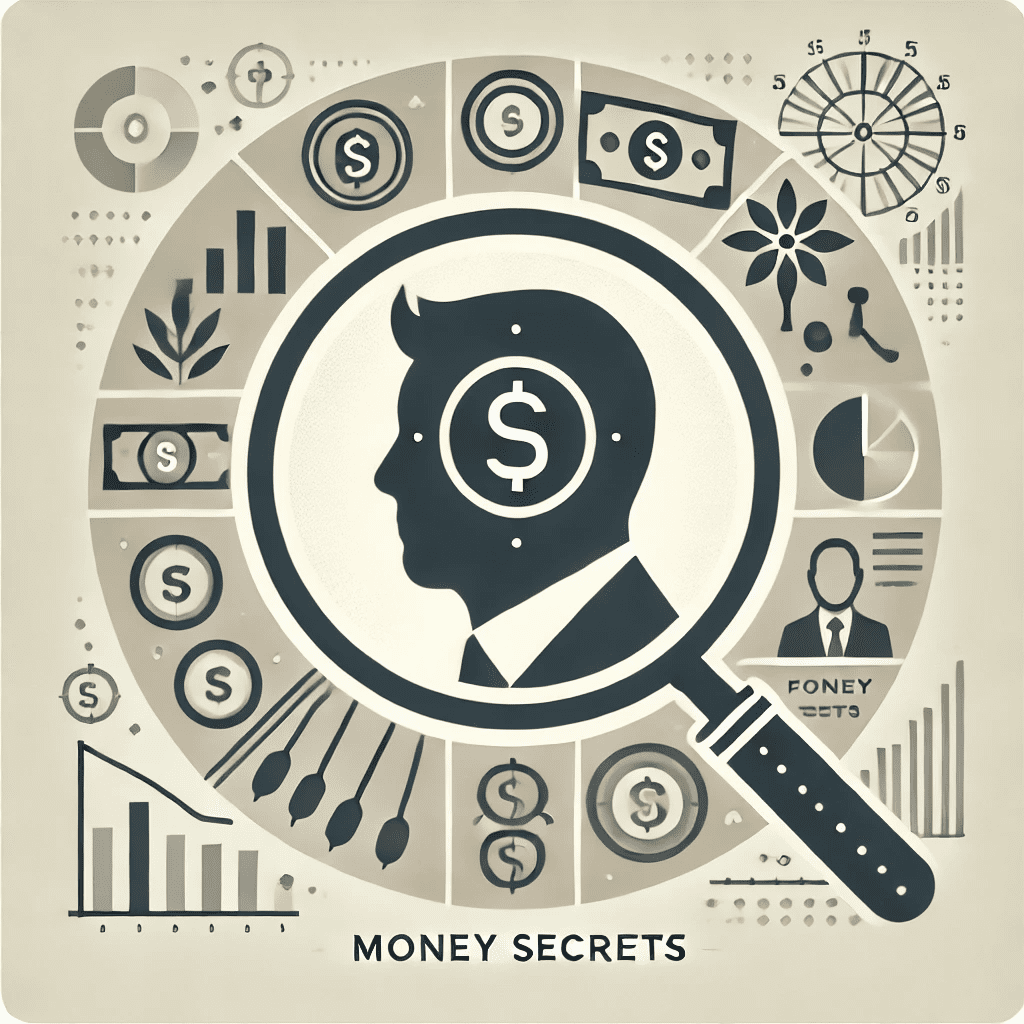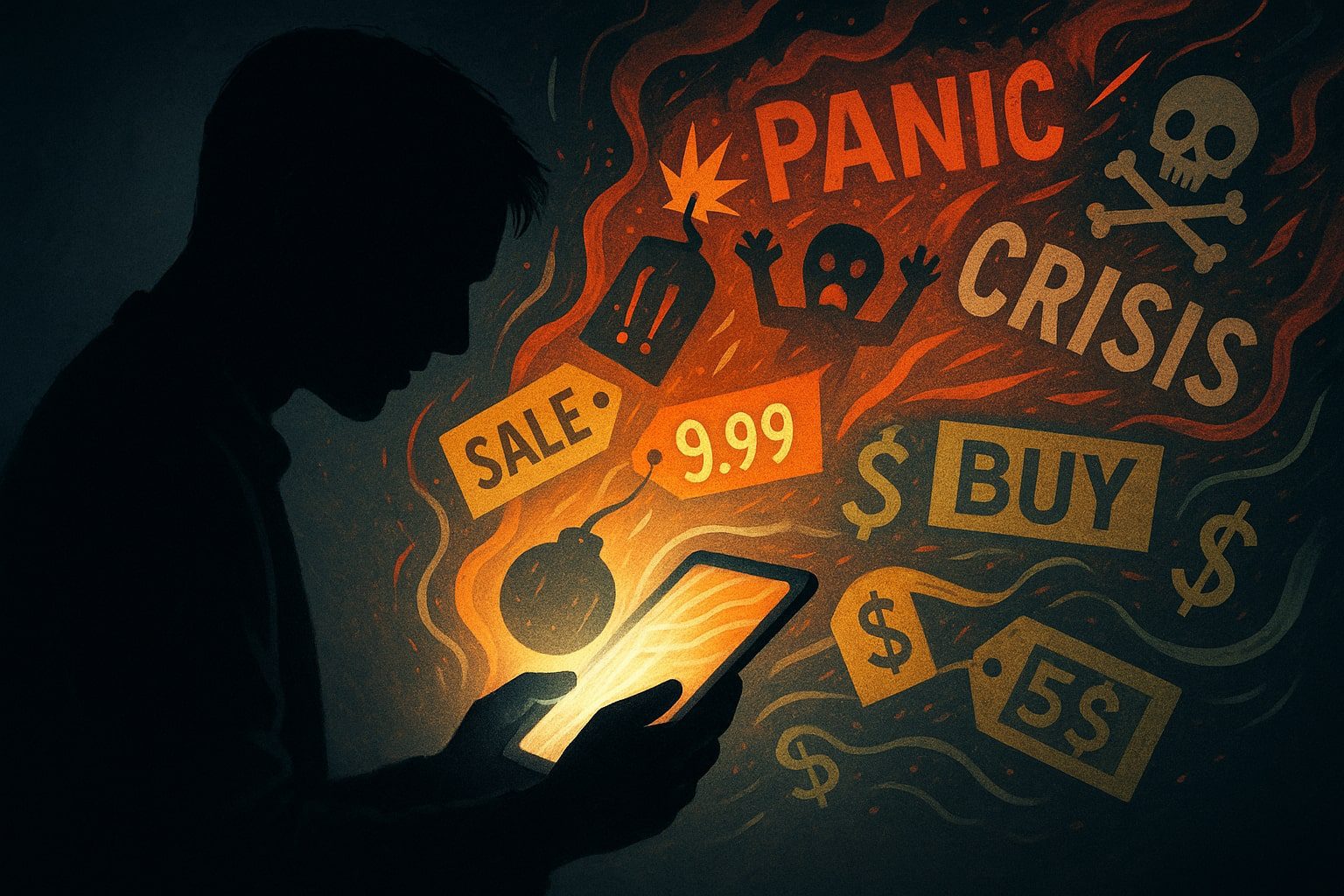Мир кажется все более опасным. Наши улицы — все менее безопасными. Наши ценности постоянно подвергаются нападкам. Угрозы ощущаются как никогда реально.
Враг где-то там — просто загляните в свою ленту новостей.
Паника как вирус
Одним октябрьским вечером 2014 года обычный врач, проверив собственный пульс, вошел в вагон нью-йоркского метро. Он только что вернулся домой после короткой волонтерской миссии за границей и направлялся в Бруклин, чтобы встретиться с друзьями в боулинге. Этот вечер обещал быть приятной передышкой: днем он успел пробежаться по городу, выпить кофе на Хай-Лайне и пообедать в местной закусочной. Проснувшись на следующее утро с чувством усталости и легкой лихорадкой, он, как и положено, позвонил своему работодателю.
Не пройдет и суток, как он станет самым пугающим человеком в Нью-Йорке. Каждый его шаг по городу будет тщательно отслежен сотнями людей, заведения, которые он посетил, закроют на карантин, а его друзья и невеста окажутся в изоляции.
Доктор Крэйг Спенсер заразился лихорадкой Эбола, когда лечил пациентов в Гвинее в составе миссии «Врачи без границ». Важно понимать: он не был заразен до тех пор, пока его не поместили в карантин. Он в точности следовал протоколу, сообщив о своих симптомах, и не представлял никакой угрозы для окружающих, находясь в общественных местах. Он был образцовым пациентом — факт, который охотно подтверждали эксперты.
Но это не остановило медийный взрыв, возвестивший о неминуемом апокалипсисе. Пока все крупные новостные агентства наперегонки пытались заработать на коллективной панике, в сети разразилось настоящее кликбейт-безумие, наполненное ужасающими прогнозами.
Физический ущерб от самой болезни был минимален. Но истерия, мгновенно распространившаяся по интернету, оказалась куда разрушительнее: она закрывала школы, отменяла авиарейсы и держала в страхе всю нацию.
Социальные сети взорвались, достигнув отметки в 6000 твитов в секунду на эту тему. Центры по контролю заболеваний и чиновники от здравоохранения отчаянно пытались сдержать поток дезинформации, который лился со всех сторон. Страх распространялся так же быстро, как и новости о нем. Эта эмоциональная волна — и привязанные к ней медиаматериалы — принесла компаниям, освещавшим событие, миллиарды просмотров.
Эти миллиарды напрямую превратились в доходы от рекламы. Еще до того, как истерия улеглась, рекламные площади на миллионы долларов, связанные с контентом об Эболе, были автоматически, с помощью алгоритмов, куплены и проданы различным компаниям.
Ужас оказался гораздо заразнее самого вируса, и для его распространения была создана идеальная среда — цифровая экосистема, спроектированная для того, чтобы сеять эмоциональный страх повсюду.
Война за ваше внимание
Каждый раз, когда вы берете в руки телефон или открываете ноутбук, ваш мозг выходит на поле боя. Противники — это архитекторы вашего цифрового мира, а их оружие — приложения, новостные ленты и уведомления, которые попадают в ваше поле зрения при каждом взгляде на экран.
Все они пытаются захватить ваш самый дефицитный ресурс — внимание — и взять его в заложники ради денег. Ваше плененное внимание стоит им миллиарды долларов в виде доходов от рекламы и подписок.
Чтобы добиться этого, им нужно нанести на карту оборонительные рубежи вашего мозга — вашу силу воли и желание сосредоточиться на других задачах — и найти в них брешь.
Вы проиграете эту битву. Вы уже проиграли. Обычный человек проигрывает ее десятки раз в день.
Возможно, вам знакома эта ситуация: в свободную минуту вы открываете телефон, чтобы просто проверить время. А 20 минут спустя вы приходите в себя в совершенно случайном уголке цифрового мира: в фотоленте незнакомца, за чтением неожиданной новостной статьи или за просмотром смешного ролика на YouTube. Вы не собирались этого делать. Что только что произошло?
И в этом нет вашей вины — всё так и было задумано.
Цифровая «кроличья нора», в которую вы только что провалились, финансируется за счет рекламы, нацеленной лично на вас. Почти каждое «бесплатное» приложение или сервис, которым вы пользуетесь, зависит от этого скрытого процесса, превращающего ваши глаза в доллары. Для этого были созданы изощренные методы, которые надежно работают. Вы не платите за использование этих платформ деньгами, но не заблуждайтесь, вы платите за них — своим временем, вниманием и мировоззрением.
Это не просто небольшое техническое изменение в типах информации, которую вы потребляете, рекламе, которую вы видите, или приложениях, которые вы скачиваете.
Это фундаментально изменило ваш взгляд на мир.
Многие из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня как общество, являются результатом решений, принимаемых скрытыми создателями нашего цифрового мира — дизайнерами, разработчиками и редакторами, которые создают и курируют потребляемые нами медиа.
Эти решения принимаются не со злым умыслом. Они принимаются за аналитическими панелями, в интерфейсах сплит-тестирования и за стенами кода, которые превратили вас в предсказуемый актив — пользователя, чье внимание можно добывать, как полезное ископаемое.
Они делают это, концентрируясь на одной упрощенной метрике, которая поддерживает рекламную модель как основной источник дохода. Эта метрика называется вовлеченностью, и упор на нее — превыше всего остального — незаметно, но неуклонно менял наш взгляд на новости, политику и друг на друга.
Краткая история новостей
«Медиа» в том виде, в котором мы их знаем, — явление не такое уж и старое. Большую часть нашей истории новости были ограничены физической близостью и передавались из уст в уста. С изобретением печатного станка новости представляли собой заметки, вывешенные в общественных местах, и брошюры, распространяемые среди немногочисленных грамотных людей.
Между XVIII и XIX веками газеты стали довольно распространенным явлением, но в основном это были трибуны для выражения мнений, содержащие политические эссе, сенсационные истории и, в конечном итоге, разоблачительные статьи. Они были рупорами для людей, стремящихся оказать политическое влияние, и многие из них имели весьма свободные отношения с фактами.
В преддверии Первой мировой войны бесконтрольная пропаганда со всех сторон в новостях достигла своего апогея, и каждая воюющая сторона участвовала в масштабной борьбе за общественное мнение. К концу войны стало ясно, что информационная война — это мощное оружие: она могла собирать армии, подстрекать толпы к насилию и дестабилизировать целые нации.
В ответ на эти систематические манипуляции с правдой, начиная с 1920-х годов, были предприняты согласованные усилия по созданию института журналистики, основанной на фактах. Этому способствовало появление первых сетей массовой коммуникации: общенациональных газет и радио. Постепенно их сменило телевидение, и между этими тремя платформами сформировалась глобальная медиасистема, поддерживаемая принципами журналистики.
Однако стремление продавать (газеты, рекламу, товары) всегда в некоторой степени противоречило идее редакционной точности и взвешенной подачи фактов. Журналистские стандарты, законы о клевете и отраслевое порицание стали механизмами, помогающими сдерживать это скатывание в сенсацию.
Но что-то изменилось, когда новости встретились с интернетом и начали переселяться в наши карманы: они стали проигрывать битву за наше внимание.
Восход алгоритмической вовлеченности
Сегодня новости вынуждены конкурировать со всем, что есть в нашей цифровой жизни — тысячами приложений и миллионами веб-сайтов. Но больше всего они конкурируют с социальными сетями — одной из самых успешных машин по захвату внимания, когда-либо созданных.
Социальные сети — одна из главных причин, по которой доходы газет упали на двузначные числа, а журналистика как отрасль находится в глубоком упадке. Теперь именно из соцсетей большинство людей получают новости.
Крупнейший игрок в социальных сетях — это Facebook*, а самая важная его часть — новостная лента.
Алгоритм, лежащий в основе новостной ленты, регулярно настраивается и исторически непрозрачен — это один из самых значимых и влиятельных фрагментов кода, когда-либо написанных. Этот алгоритм можно представить себе как главного редактора новостной ленты. (У X, Snapchat и YouTube есть свои собственные редакционные алгоритмы, но мы сосредоточимся на Facebook* из-за его абсолютного доминирования.)
Редактор новостной ленты — это робот, и он гораздо лучше справляется с захватом внимания, чем обычные редакторы-люди. Он может предсказать, на что вы кликнете, лучше, чем кто-либо из ваших знакомых. Это то, что профессор Пабло Бочковски из Северо-Западного университета назвал «величайшим редактором в истории человечества».
Он показывает вам истории, отслеживает вашу реакцию и отфильтровывает то, на что вы с наименьшей вероятностью отреагируете. Он следит за видео, которые вы смотрите, за фотографиями, на которых задерживаете курсор, и за каждой ссылкой, по которой переходите. Он составляет карту вашего мозга, выискивая паттерны вовлеченности.
Он использует эту карту для создания персонального потока медиаконтента, предназначенного только для вас. Делая это, он, по сути, стал главным редактором персонализированной газеты, которую ежемесячно читают 2 миллиарда человек.
Однако по традиционным журналистским стандартам редактор новостной ленты — очень, очень плохой редактор. Он не видит разницы между фактической информацией и тем, что лишь выглядит как факт (что мы наблюдали во время массового взрыва вирусных фейков на выборах 2016 года). Он не распознает откровенно предвзятый контент или истории, созданные для разжигания страха, недоверия или гнева.
Редактор новостной ленты буквально изменил то, как пишутся новости. Он стал главным источником трафика для новостных сайтов по всему миру, и это изменило поведение создателей контента. Чтобы их история была подхвачена алгоритмом, новостные продюсеры (и редакторы-люди) изменили свои стратегии, чтобы оставаться на плаву и остановить убытки. Для этого многие новостные организации приняли менталитет «трафик любой ценой», стремясь к большей вовлеченности в ущерб тому, что мы традиционно называем редакционной точностью.
Именно по этой причине многие новостные сюжеты, которые вы видите сегодня, начинаются с кричащих, драматичных, привлекающих внимание заявлений — они пытаются зацепить вас и выделиться на фоне конкурентов. Это «внутренняя кухня» новостной индустрии. Они проигрывают битву за внимание и впали в отчаяние.
Эмоциональный взлом вашего внимания
Эмоциональные реакции — один из самых простых способов оценить ценность поста, и алгоритму новостной ленты легче всего их картировать, измерять и предлагать вам еще больше подобного контента. Это настоящие эмоциональные взломы, основанные на аффективной вовлеченности.
Новостная лента отдает предпочтение контенту с такими эмоциональными «крючками» — они приводят к большему количеству кликов, лайков, репостов и комментариев. По мере того как производители контента соревнуются за этот тип аффективной вовлеченности, битва за внимание создает то, что технический этик Тристан Харрис назвал «гонкой на дно ствола головного мозга».
Сенсационные заголовки — огромная часть этого процесса. Такие новости более «липкие» и лучше продвигаются алгоритмом. Они распространяются быстрее и привлекают больше трафика, чем их менее громкие аналоги.
Вот примеры самых популярных фраз из недавнего исследования 100 миллионов заголовков:
- Слезы радости
- Заставит вас плакать
- Вызовет у вас мурашки
- Это слишком мило
- Был в шоке, когда увидел
Это называется «упаковкой заголовка». Это способ, которым новостная история контекстуализируется, или упаковывается, специально для того, чтобы собрать больше кликов. Человек, который пишет заголовок, редко является автором самой статьи.
Как недавно написал редактор Fusion Феликс Сэлмон: «Количество времени и усилий, вложенных в «упаковку» истории, может значительно превышать количество времени и усилий, затраченных на ее написание».
Упаковка осуществляется с помощью A/B-тестирования, которое является способом «взломать» себе путь к большему трафику. Тестируя десятки различных заголовков и измеряя, какие из них получают больше всего кликов, процесс написания заголовка превращается в игру. Цель? Захватить как можно больше внимания.
Проблема в том, что большинство людей, которые видят эти посты в социальных сетях, на самом деле не переходят по ссылке, чтобы прочитать саму статью. Для многих пользователей заголовок сам по себе становится новостью, даже если он имеет мало общего с первоначальным событием.
Легко увидеть, как эти стратегии можно использовать для создания гиперпартийного, вызывающего раскол и/или возмутительного контента. Как недавно сказал мне бывший руководитель контент-отдела крупного издательства, ориентированного на миллениалов: «Наша задача — не оспаривать политические взгляды. Наша задача — эксплуатировать вашу политическую позицию по максимуму».
В издательском мире это не секрет: партийность — потрясающий двигатель вовлеченности. Люди предпочитают кликать, комментировать и делиться тем, что заставляет их чувствовать себя хорошо, а истории, подтверждающие их убеждения, именно это и делают.
Как это меняет нас: когда мнимые угрозы становятся «реальностью»
Оптимизация вовлеченности исказила наше восприятие угроз на очень высоком уровне.
Большую часть истории нашего вида доступная информация была полезна для выживания. Если вы слышали много историй о нападениях диких собак, вы учились быть бдительными по отношению к диким собакам.
Это связано с особенностью человеческой психики, называемой эвристикой доступности. Это короткий путь для нашего мозга, который заставляет нас верить: «Если что-то легко приходит на ум, значит, это правда».
Поскольку доступная информация, как правило, была лучшим индикатором вероятности, наш мозг развил эту систему, чтобы помочь нам знать, чего ожидать от окружающего мира. Это стало особенно выраженным в отношении угроз, поскольку преимущества страха перед вещами, которые могут нас убить, значительно перевешивали издержки.
Но сегодня доступная информация об угрозах совершенно не соответствует реальности — она в первую очередь является отражением медиа, которые мы потребляем.
Давайте посмотрим на уровень преступности в США. Несмотря на резкое снижение преступности за последние 30 лет, более половины населения считает, что ситуация с преступностью ухудшилась.
Медиа (а теперь и социальные медиа) являются основным компонентом, формирующим наше мировоззрение. Фокус на преступности в новостях не просто меняет наше мнение о преступности в целом — он заставляет нас чувствовать себя гораздо более уязвимыми, чем мы есть на самом деле. Для большинства из нас восприятие и есть реальность. Когда мы видим мир как опасное место, это меняет наше поведение и отношение, независимо от реальной угрозы.
Ярким примером этого является терроризм, который сегодня кажется более заметным, чем когда-либо в современной истории. Читая первую полосу любой крупной газеты, можно подумать, что это одна из главных причин смерти во всем мире.
Тем не менее, убийства, связанные с терроризмом, составляют ничтожную долю от общего числа убийств, особенно в США. Существует глубокая асимметрия в освещении террористических атак по сравнению с другими видами убийств.
Вот неудобная правда о значимости терроризма в нашей жизни: мы создали систему мгновенного распространения его истинной цели — Террора.
Страх перед ним намного превосходит вероятность того, что это случится с нами или с кем-то из наших знакомых. Что еще более зловеще, чрезмерное освещение этих атак часто является именно тем результатом, которого добиваются те, кто их совершает.
Так называемое «Исламское государство*» (ИГИЛ) воспользовалось этой гиперболической медиа-экосистемой во время своего стремительного взлета всего за три года, начиная с 2014 года. Понимая, что они ведут битву за внимание, они уделяли своему бренду столько же внимания, сколько и военным усилиям, создав медиа-крыло для раздувания своих успехов. Эти усилия по доминированию в медийном пространстве с помощью ужасающих актов превратили их в главную угрозу для Запада, несмотря на то, что у них была довольно небольшая армия, ограниченные ресурсы и почти никакой международной поддержки.
Демократизация пропаганды ради прибыли
Невозможно рассматривать медиасистему отдельно от функционирования демократий. Наши мнения всегда находятся под влиянием новостей, и наши решения на выборах отражают эти знания. Если представить общество как большой коллективный человеческий организм, то новостные медиа — это что-то вроде центральной нервной системы. Она помогает нам реагировать на угрозы, обмениваться информацией и определять, что нуждается в исправлении.
То, как эта нервная система контролируется и поддается влиянию, определяет очень многое в работе общества — о чем мы заботимся, кого защищаем, с кем боремся. На протяжении XX века политики, магнаты и ученые знали цену этого влияния. У него было имя: пропаганда.
Пропаганда требовала денег, таланта и инфраструктуры для создания и распространения. Это был дорогой и грубый инструмент контроля сверху вниз.
Сегодня мы демократизировали пропаганду — любой может использовать эти стратегии, чтобы захватить внимание и продвигать вводящий в заблуждение нарратив, гиперболическую историю или возмутительную идеологию — до тех пор, пока это привлекает внимание и приносит прибыль рекламодателям.
Журналистика — исторический противовес пропаганде — стала самой большой жертвой в этой алгоритмической войне за наше внимание. И без нее мы наблюдаем распад взвешенной, общей для всех реальности.
Это никуда не денется. Во многом эти алгоритмы являются нашим отражением. Они картируют естественное человеческое поведение и склонности — на что мы кликнем, что нас возмутит, что мы полюбим. Они — часть нас. Но эти карты включают и некоторые из наших худших предубеждений, иррациональных страхов и вредных привычек.
Мы непреднамеренно создали медиасистему, которая монетизирует многие из наших недостатков. Она не исчезнет — мы не можем просто загнать этого джинна обратно в бутылку.
Знание того, как надежно взламывать человеческий мозг ради внимания, является одной из самых значительных новых тенденций XXI века. Это открытие, как и любое крупномасштабное изобретение в нашей истории, имеет неожиданные последствия, которые трудно предсказать.
Если мы хотим продолжать жить в общей реальности, мы должны быть готовы трезво взглянуть на эти последствия. Решение наших самых больших проблем как вида — от изменения климата до пандемий и бедности — требует от нас общего повествования о честных проблемах, с которыми мы сталкиваемся: реальных угрозах и реальных причинах для возмущения.
Без этого мы подрываем нашу величайшую силу — нашу уникальную способность сотрудничать и разделять тяжелое, но важное бремя быть человеком.
*Организации Игил, Meta, а также её продукты Instagram и Facebook, признаны экстремистскими на территории РФ.
***✨ А что думаете вы? ✨
Делитесь мыслями в комментариях — ваше мнение вдохновляет нас и других!
Следите за новыми идеями и присоединяйтесь:
• Наш сайт — всё самое важное в одном месте
• Дзен — свежие статьи каждый день
• Телеграм — быстрые обновления и анонсы
• ВКонтакте — будьте в центре обсуждений
• Одноклассники — делитесь с близкими
Ваш отклик помогает нам создавать больше полезного контента. Спасибо, что вы с нами — давайте расти вместе! 🙌